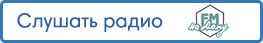Номинация «Жизнь, огранённая войной»
Я всматриваюсь в старые фотографии семейного альбома. На пожелтевших снимках — знакомые и незнакомые лица. Взгляд выхватывает на фотокарточках одно лицо, ради которого я и беру с полки альбом. Это мой прадедушка Нарожный Eфим Матвеевич. Вот он, молодой терский казак, мчится по дороге на лихом скакуне, только пыль столбом. Вот он — уже сухощавый старик с седой головой в кругу семьи. На голове — фуражка, на плечах — старая потертая стеганка. Фотография черно-белая, от этого лицо его кажется припорошенным пылью времени, а глаза ясные, добрые и немного усталые, смотрят, кажется, прямо тебе в душу. Фронтовик, прошедший дорогами, а чаще бездорожьями войны, от станицы Гребенской Грозненской области почти до самого Берлина, представитель «царицы-пехоты», самого уязвимого и беззащитного рода войск. Такие лица я видел только на кадрах военной хроники времен Великой Отечественной.

В 1941 году Eфиму Матвеевичу было чуть за 30. Среднего роста, с прямыми темно-каштановыми волосами, известный гармонист, конюх, плотник, садовод, он был уважаемым человеком в колхозе, где работал с момента его основания в садоводческой бригаде и коневодстве. Через всю жизнь пронес любовь к лошадям. Ухаживал за ними как за малыми детьми, разговаривал, понимал их, чувствовал. В станице шутили, что знает он слово заветное, оттого и слушаются его все кони на свете. Над такими разговорами только посмеивался Eфим, пусть, мол, болтают, что хотят. На людей не обижался.
Случилось ему еще до войны с одной лошаденкой познакомиться. Как-то вечером сильно заболел младший 4-летний сынишка Георгий. А доктора в станице не было. У него с женой до войны трое деток было: две девочки и долгожданный сын. Дочери умерли одна за другой от брюшного тифа. Остался один сынок, родная кровиночка. И ждать до утра Eфим не мог, отвез на ночь глядя жену и сына в соседнее село. Врач осмотрел мальчонку и оставил их с матерью в больнице. А Eфим в ночь пешком домой отправился, утром на работе надо быть. Дорога проходила по равнине, поросшей лесочком. Шел, торопится, вдруг услышал какой-то странный звук: не то стон, не то всхлип. Свернул с тропы, присмотрелся — лошадь худая, прямо кляча, ноги стреножены, кровь на крупе, еле дышит. Распутал стремена, вывел ее на дорогу. А она и идти-то не может, еле двигается. Вдруг Eфиму показалось, что тень какая-то в кусты метнулась. Лошадь шарахнулась, а он почувствовал сильный удар сзади по голове, упал и потерял сознание. Очнулся в чьей-то хате. Открыл глаза и увидел, что над ним склонились какие-то люди.
— Что со мной? Где я? — простонал Eфим.
— Очнулся, герой? Скажи лошади своей спасибо, а то был бы ты уж давно на том свете. Притащила тебя, по стене копытом бьет и ржет протяжно, помочь, значит, просит. Чуть дом нам не развалила, даром, что тщедушная.
Не мог Eфим поверить услышанному:
— Какая лошадь?
— Да та самая, что тебя с километр по траве волокла, сама задом пятилась, вся израненная, а тебя не бросила, к людям тащила, верила, что спасут.
И показали рубаху его, а на ней воротник весь изжеванный. Выхолит, и правда, спасла его незнакомая лошадь. Забрал Eфим ее домой, выходил и назвал Лаской. К хозяину она привязалась, понимала, что тот от верной гибели спас. По вечерам после работы в доме часто собирались односельчане. Ставили на стол нехитрую снедь, вели беседы и пели песни. У Eфима был очень красивый голос, чаще всего он запевал, а все сидящие за столом подхватывали: «Цвіте терен, цвіте терен, а цвіт опадає…» После этих слов к хозяину сзади тихонько подходила Ласка, клала ему свою большую голову на плечо, покачивая ею, смешно шлепала губами и тихонечко ржала, будто подпевала. А когда пели казачьи песни, Ласка смешно переминалась с ноги на ногу, будто танцевала или маршировала.
На следующий день после того, как в деревне узнали, что началась война, Eфима Матвеевича отправили на фронт. Так начались долгие и трудные военные будни рядового пехотинца Нарожного через всю Россию до Восточной Померании. Жена с сыном остались в Гребенской, а Ласку конфисковали для нужд фронта. Письма из дома приходили редко, новостей в них было мало. В одном из боев получил Eфим ранение. В госпитале оказали помощь и оставили на пару недел
ь, пока рана не затянется. Вечером вышел Eфим во двор, где сидели солдаты и пели грустные песни. Не хотелось ему тоску наводить: «Не такие песни поют наши казаки на Кавказе», — и завел:
На горе стоял казак.
Он Богу молился,
За свободу, за народ,
Низко поклонился.
Солдаты стали подпевать, и тут Eфим услышал знакомое ржание и цоканье копыт. Он не мог поверить своим глазам: перед ним стояла его Ласка и пританцовывала в такт песне. Лошадь узнала голос хозяина. Как оказалось, она перевозила орудия и снаряды на соседних фронтах. А сюда, в госпиталь, на ней привезли нескольких раненых. Всю ночь Eфим не отходил от лошади, гладил ее, разговаривал, не мог поверить, что рядом. А рано утром Ласка потащила свое орудие в соседнее село. Правил ей Андрейка, лет 17 ему было. Все уверял, что будет беречь лошадь как зеницу ока. Не знал тогда Eфим, что видит свою Ласку в последний раз. А вот с Андрейкой довелось ему встретиться в 1944-м возле Орши. И снова в госпитале. Рассказал тогда хозяину Андрей о последнем геройском дне жизни его Ласки.
Во время одного из отступлений лошадь повредила ногу, и ее решено было оставить в хуторе. Вскоре деревню оккупировали фашисты. Колхозные мальчишки часть лошадей успели угнать в степь, а Ласка осталась на бригадном дворе. Вдруг двор неожиданно наполнился немцами. Солдаты умывались, обливались водой из водопойного корыта, пили воду из колодца. У кого машины были сломаны, стали ловить бродивших поодаль лошадей, которых не успели в степь отогнать.
На Ласку сначала никто внимания не обратил, видно было, что она худая и неказистая. Но одному из гитлеровцев коня не хватило. Он со смехом подошел к Ласке, снял с немытой головы фуражку, протянул перед ней, как будто кавалер даму на танец приглашает, вынул из кармана губную гармошку и что-то запиликал. То ли музыка показалась ей знакомой, то ли по привычке Ласка стала перебирать ногами, будто пританцовывает. Тогда фриц ударил ее по ногам, чтобы лошадь ему поклонилась. Ласка подняла голову, но на колени не стала. Немцы засмеялись. Фриц ударил по ногам еще раз. Тогда она, резко качнув головой вниз, взбрыкнула и ударила с такой силой, что фашист отлетел на несколько метров. А потом тихонечко отковыляла в сторону и, как могла, поскакала бочком в поле.
Немца стали отливать из ведра, трясли, но он не подавал признаков жизни. На виске его было небольшое пятнышко от удара копытом, а изо рта сочилась небольшая струйка крови. Несколько фашистов прыгнули на мотоциклы с люльками, схватились за пулеметы и поехали вдогонку за старой лошадью. Ласка хромала и не могла далеко уйти. Послышались длинные очереди. Каратели вернулись, погрузили мертвого немца в люльку и увезли.
Ребятишки, издалека видевшие эту картину, побежали в поле. Лошадь лежала среди сочной зеленой травы. Все её худое тело было прошито пулеметными очередями. На одном глазу застыла не успевшая высохнуть слеза. Ребята похоронили Ласку как героя. Почему она с такой ужасающей силой ударила этого фашиста, хотя ни разу в жизни не била людей копытами, остается загадкой. Кто знает, о чём думают лошади?
Из санчасти Eфим снова отправился на фронт. Освобождал Восточную Пруссию, Польшу, Австрию, Венгрию. Знаю одно: прадед мой, награжденный медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За отвагу», участвовал в военных операциях, ходил в разведку, вытаскивал с поля боя раненых. Многое пережил. И никогда не ел конину, даже на фронте. В родную деревню вернулся в конце мая 1946-го налегке: в походной сумке — только бритвенные принадлежности, подобранный в немецком окопе котелок и складная ложка-вилка. Вот и все военные трофеи.
Работал в садоводческой бригаде, пастухом, конюхом. Был веселым, жизнерадостным человеком, в станице его очень любили. После войны у Eфима родились дочь — моя бабушка, и сын. Про войну старался не вспоминать.